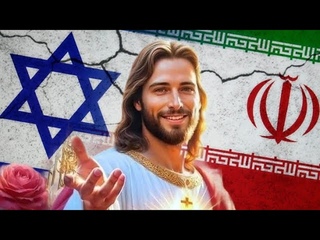Человек, который сажал деревья (мультфильм)
Человек, который сажал деревья
=============================
В 1953 году французский писатель Жан Жионо написал небольшую новеллу про человека, которой сажал деревья. Звали этого человека Эльзеар Буффье. Он был крестьянином и имел свою ферму в Верхнем Провансе, где и жил с женой и сыном. Но Провидение распорядилось таким образом, что он потерял их обоих. И Эльзеар Буффье (дело было еще до Первой мировой войны) перебрался из долины в горы, в места, давно заброшенные людьми, где осталось «пять-шесть домов без крыши, сгнивших от дождя и ветра, часовенка с покосившимся колоколом».
Климат в этих краях был суров и летом, и зимой, а горы походили на безжизненную пустыню, хотя когда-то здесь процветали галло-римские поселения, били родники, наполняя свежей водой фонтаны, и земля благоухала. Люди, которых встретил Эльзеар Буффье, жили в этих местах скорее от безысходности, только и мечтая, что сбежать отсюда. Пустынные земли, сильные ветры и частые дожди сделали местных жителей злыми и завистливыми. Мужчины, которые добывали в этих краях древесный уголь, и их семьи постоянно боролись с соседями за малейшие блага — от выгодной продажи угля до скамьи в местной церкви.
Буффье завел небольшое стадо овец и поселился отдельно; он построил дом, в естественной расщелине рядом с домом выкопал колодец, наладил скромный быт. Но смысл его жизни заключался не в уединении, не в уходе от мира, а в одном деле, которое он считал для себя самым важным. Каждый вечер этот крестьянин-пастух выкладывал на стол мешочек с желудями, перебирал их с особой тщательностью и откладывал сотню самых крупных, крепких, не треснутых. Поутру он вымачивал желуди в воде и брал их с собой, отправляясь в горы пасти овец. У него был особый посох: железный, толщиной в палец и длиной в полтора метра. В горах он оставлял овец на собаку, а сам поднимался выше, своим посохом выбивал в иссохшей окаменелой земле небольшую ямку и опускал туда желуди. Эльзеар Буффье сажал дубы. Когда сотня желудей оказывалась в земле, начинался новый отбор. За первые три года он высадил примерно сто тысяч желудей, из которых двадцать тысяч взошли, но выжило еще меньше, тысяч десять. Эльзеар Буффье считал, что склоны Верхнего Прованса стали безжизненными потому, что здесь нет деревьев, и посадка деревьев превратилась в дело его жизни.
Пастух Буффье экспериментировал. Рядом с домом он оборудовал питомник для выращивания буков, расстался с большей частью своих овец, так как они вредили молодым деревьям, и завел пасеку. В низине недалеко от своего дома он высадил березы, поскольку предполагал, что вода может залегать неглубоко, всего в нескольких метрах от поверхности. К середине 1930-х годов холмы и скалы Верхнего Прованса изменились до неузнаваемости. Там, где раньше были голые холмы, теперь, куда ни бросишь взгляд, стояли шести-семиметровые дубы:
«Зрелище было впечатляющим. …Лес был разделен на три участка: одиннадцать километров в длину и три километра в самой широкой его части. Если вспомнить, что все это сделано его руками и душой без каких-либо технических средств, то понимаешь, что люди могли бы созидать наравне с Богом не только в области разрушения.
Эльзеар Буффье не бросал своих замыслов, о чем свидетельствовали буки, разросшиеся до самого горизонта. Дубы были крепкие и здоровые и уже переросли возраст, когда можно было бояться грызунов; а что до непредвиденных замыслов Провидения, то для того, чтобы разрушить созданное творение, теперь пришлось бы прибегнуть к ураганам» (пер. А. Андрасюка).
В пустынных некогда поселениях журчали ручьи, и вместе с водой в них появились ивы, луга, сады, цветы и сам смысл жизни. Безжизненные же склоны оказывались все дальше и дальше от жилища Эльзеара Буффье, и он вынужден был построить себе небольшое убежище в двадцати километрах от дома. Именно там он и трудился, когда в удивительный «природный лес» нагрянула комиссия. Деревья покорили начальников из министерства лесных и водных ресурсов, депутата и специалистов. Они подивились, сказали много хороших слов и сделали очень полезное дело — поставили лес под охрану государства, запретив в этих краях заготовку угля. Лес не тронули даже во время Второй мировой войны, когда страна особо нуждалась в угле. К тому же эти места были труднодоступны для интенсивной добычи древесного угля.
В 1945 году в этот уголок Верхнего Прованса уже ходил рейсовый автобус. Здесь все изменилось, даже воздух:
«Вместо порывистого сухого ветра… дул легкий бриз, наполненный ароматами. Сверху доносился шум ветра в лесах, похожий на шум текущей воды. И, наконец, самое удивительное: …настоящее журчание воды в ручье. Здесь построили фонтанчик, и он был полон воды; …рядом с ним посадили липу, которой уже было года четыре, судя по толщине ствола, — неоспоримый символ воскрешения».
Сюда вернулась надежда: место очистили, снесли полуразвалившиеся стены, восстановили дома и построили новые.